-
Юрий Евсеев
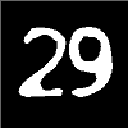 - Вне сайта
- Золотой
 - Сообщений: 231
- Спасибо получено: 24
- Баллов: 267
- Репутация: 10
  -
|
Друзья! Несколько лет назад был в этих местах в пеше-горном походе. Посещаемость этих мест туристами всей страны огромно, но, занявшись внедорожным движением, хочу Вам предложить попытку покорения Мраморного ущелья на внедорожниках (думаю, более 50-ти лет эти места не слышали звука работающих двигателей автомобилей). Участок "дороги", оставшейся с тех времен, всего километров двадцать, но за эти годы природа превратила ее в серьезное препятствие для машин. Но, надеюсь, если у человека есть желание покорить природу, она в любом случае отступит... Сейчас размещаю информацию о этих местах из интернета, когда попаду домой, то размещу свои фотографии..........................................................Поехали!!!...................................................
Полный текст статьи с фотографиями можно посмотреть [url=http://xn--80addd3cbapn6k.xn--p1ai/your-road/reports/90-kodar.html]здесь[/url]
О суровой горной стране Кодар слышали, пожалуй, все люди, имеющие отношение к самодеятельному и спортивному туризму. Слышали они и об одной из самых главных достопримечательностей этого места – хорошо сохранившийся (для нашего времени, конечно) урановый рудник, на котором использовался труд заключенных. Место, где расположен этот рудник, называют Мраморное ущелье.
Благодаря сравнительно небольшой удаленности лагеря от поселка Чара вообще и натоптанной тропы в частности, он посещается большинством туристов, планирующих пешеходные и горные маршруты по любым районам Кодара. На карте бывший урановый лагерь, в котором нашли свою смерть множество заключенных, обозначен весьма миролюбиво: поселок геологов.
На любых картах, хоть военных, хоть туристических, поселок обязательно сопровождается пометкой «нежилой». Остатки некогда огромной инфраструктуры помечены как развалины. От тех зимовий, что также обозначены на картах, зачастую уже нету следа. И не смотря на то, что развалины усиленно растаскивают на дрова туристы, некоторые сооружения до сих пор поражают воображение. Не тем, как они выглядят, а тем, сколько труда и сил (читайте жизней) было положено на эти стройки. Мрачные постройки угнетают. От развалин веет болью и страданиями, смертью. Когда походишь среди этих прогнивших полуразрушенных остовов, отчетливо понимаешь, что это место было создано не для того, что созидать, а для того, чтобы умирать здесь. Не более и не менее того.
Эти постройки стояли здесь до последнего, до начала девяностых. После этого, не выдержав времени, десятилетиями простоявшие без присмотра, элементы большого архипелага ГУЛАГ стали разрушаться. Здания рухнули, мост через Средний Сакукан – туристы иногда называют его «Чертов мост» – был снесен паводком. Кодарлаг начал исчезать.
После второй мировой войны огромной империи Советскому Союзу требовался уран, много урана. Создание ядерного щита требовало жесткой директивы – срочно найти и максимально эффективно (т.е. с малыми затратами) вести добычу. Месторождения урана обнаружились в разных точках империи, от вечной мерзлоты до пустынь. В этих проклятых сотнями тысяч заключенных местах и выросли комплексы по переработке человеческих ресурсов в долгожданную свободным государством руду.
Об этих лагерях нет никаких записей. Их непосредственно курировало НКВД и сведения по ним были строго засекречены. В официальных документах можно найти лишь ссылки на неизвестные комплексы. Об этих лагерях нет упоминания ни в одних воспоминаниях хоть одного бывшего зека, ибо никто из них не смог выйти за пределы колючей проволоки.
Лагерь в Мраморном ущелье не был полностью уничтожен, как не были уничтожены и другие лагеря Кодара. В результате этого сохранившиеся чуть ли не в первозданном виде территории стали доступны широкому кругу путешествующей публики. Вокруг лагеря на Мраморном ущелье стало ходить множество слухов и домыслов. Я лишь попытался хоть как-то отделить правду от лжи. Проблема лишь в том, что большинство людей, говорящих о руднике, либо сознательно искажает факты, либо заблуждается, не имея понятия о предмете.
Сразу стоит развеять один из мифов этого места. Существует мнение, что лагерь не был уничтожен, так как находится на консервации, чтобы в случае нужды в ядерном топливе снова можно было бы добывать уран силами новых заключенных. Эта версия не выдерживает критики. Несмотря на кажущийся хороший внешний вид, а надо отметить, что некоторые стены выглядят так, словно их сложили десяток лет назад, ни о какой консервации речи быть не может. Почти полностью лагерь уничтожен (хоть и не кажется таковым). Причем происходило это путем специально направленного вмешательства. Лишь случайностью можно назвать то, что лагерь еще стоит. Восстановление лагеря возможно только с ноля и больше никак иначе. Даже с помощью современной техники это дорогостоящая и ненужная задача, так как в нашей стране достаточно мест, более приспособленных для ведения добычи.
Итак, ущелье Мраморное… какое мирное название для лагеря смерти, не правда ли?
Мысли об оружии массового уничтожения бередили мысли военных еще в начале прошлого века. Биологическое и химическое оружие того времени не позволяло моментально умерщвлять тысячи людей, и требовалось что-то более мощное, такое, от чего не существовало защиты. Открытия в области физики позволили сформировать идею ядерного оружия уже к 1938 году. Это и положило началу гонке вооружений между Советским Союзом и США. В 1940 году на Кодаре начали собирать элементы большой инфраструктуры, предназначенной для обеспечения наиболее эффективного и дешевого способа добычи руды, которой уже в следующем десятилетии суждено будет стать смертоносной. Комплекс не был достроен из-за войны, но после наглядной демонстрации американцев результата их исследований, строительство было форсировано, и в 1949 (официально) году Кодарлаг был запущен в эксплуатацию.
Мраморное ущелье являлось центром инфраструктуры, сетью раскинутой по близлежащим к поселку Чара горам. Была протянута высоковольтная линия и построена дорога для вывоза руды. Большие и мелкие лагеря для обеспечения нужд рудника были построены вдоль дороги, по долинам рек и на песках. Они отвечали за поддержание дороги в удовлетворительном состоянии, заготовке топлива и строительного материала, обогащение добытой руды, отдых вольнонаемных и работников администрации.
Окунемся на мгновение в атмосферу этого жуткого места, которое и сейчас видится таким даже на фоне еще желтых зданий лагерной администрации…
Узкий каменный мешок, с высоченными стенами. Выход из ущелья не превышает в ширину четырехсот метров. Летом солнце появляется лишь к полудню, после четырех часов дня скрываясь вновь. Зимой солнца здесь нет. Большую часть года лежит плотный туман, изредка поднимающийся над землей на двадцать-тридцать метров. Ущелье находится выше границы леса, поэтому растительности здесь тоже нет. В зековском лагере растет кое-где мох и пытается пробиться трава, за короткое лето (полтора месяца) пытающаяся отцвести, но выше, ближе к штольням, нет даже мха. Температура летом по ночам нередко падает ниже ноля, а зимой опускается до минус шестидесяти градусов. Из зверей лишь пищухи, на которых охотятся и зеки, и охранники – одни ради еды, вторые ради забавы. Над ущельем летает падальщик, да изредка в воздухе мелькают маленькие птички. На огороженной территории 150 на 150 метров, в пяти бараках размещена тысяча заключенных. Прямоугольник их территории по внутренней стороне выставлен полутораметровым заграждением из колючей проволоки, с пропущенными сверху и снизу проводами, по которым течет высокое напряжение. В трех метрах от этой ограды располагается более мирный ряд колючки высотой три с половиной метра. Еще в трех метрах стоят столбы в пять с половиной метров, на которых висят мощные прожектора, освещающие периметр ограждения даже в самый плотный туман. Четыре сторожевых вышки с автоматчиками стоят по углам. Из лагеря некуда бежать, но процедура установки мер против побегов отработана на других лагерях и местная администрация не пренебрегает ими и здесь.
Ближе к выходу из ущелья разместились постройки администрации. Здесь же живут так называемые вольнонаемные. Это люди, для которых лагерь является рабочим местом и заключенные для них лишь инструмент. Это геологи, прорабы, мастера, в общем, в своем роде специалисты. Например, посмотрите, как выполнены шипы соединений на углах зданий и мостов – здесь четко выдержаны все углы. Это настоящее искусство и только благодаря этому деревянные строения могут простоять запросто пару сотен лет (одна из причин сохранения зданий в лагере). Рядовой зек так не сможет сделать. Поэтому и нужны вольнонаемные. Специалисты рассчитывают, где взрывать и где долбить киркой, куда и как пойдет штольня. Небольшой медицинский персонал оказывает медпомощь вольнонаемным и фиксирует смерть зеков. Геологи бегают со станочком для вырезания проб и что-то пишут в своих журналах. В общем, все при деле.
В шесть утра один из часовых бьет в рельс – в лагере зека побудка. Вольнонаемные разносят по баракам бачки с едой. В половине седьмого заключенные строятся на перекличку. Политические заключенные ждут разнарядки, которая, в общем, одинаковая каждый день. Счастливцы (скорей любимчики) уходят в лагерь администрации, в мастерские. Три мастерских и лесопилка работают на нужды лагеря. Другая часть зеков выходит через ворота к самой ближней штольне, что находится рядом с их лагерем. Эта штольня была начата самой первой и оказалась самой бедной. По осыпи, спотыкаясь и падая, они поднимаются вдоль столбов с проводами (для освещения штольни) на семьдесят метров вверх. И, наконец, большая часть оставшихся зеков, уныло бредет в самый конец каменного мешка. Этот полукилометровый путь кажется им отдыхом и радует тело перед тяжелой и изнуряющей работой, наградой за которую служит только смерть. Они бредут мимо высокого забора справа, что глухими и высокими досками огораживает маленькую, 30 на 15 метров территорию с небольшим зданием. Вокруг забора натянута вторым рядом колючая проволока, и никто из зеков не знает точно, что там. Мимо водонасосной станции они проходят к краю небольшого, но крутого ледника. Надев кошки, они карабкаются по льду на высокий вал, на котором их уже ждут тележки и кирки. Здесь же размещается подстанция и мастерские, огороженные колючкой. По деревянным тротуарам зеки идут с тележками к штольням, где их уже поджидают мастера, с болтающимися на шеях противогазами, спасающими легкие от ядовитой пыли. Идти вверх тяжело, подъем крутой, а доски скользкие от инея и льда. В штольнях невольные рабочие, заходясь кашлем от мелкой едкой пыли, толкают по рельсам вагонетки с рудой. На краю штольни они освобождают вагонетки, ссыпая руду вниз. Внизу, в облаке пыли, такие же рабочие, в любую погоду грузят руду на тележки, чтобы увезти ее еще ниже.
По путям, длиной в полкилометра, зеки спускают тележки обратно, чтобы ссыпать руду в деревянный короб, по которому она уходит вниз, в кузов подъехавшей машины. Большую часть рабочего времени зеки работают в темноте или в тумане, лишь при свете прожекторов. Лишь вечером, уже давно после того, как солнце скрылось за скалами, зеки возвращаются в свой холодный барак. Сколько раз они видят солнце за свою лагерную жизнь? Почти никогда…
Бараки построены из бревен, но очень тонких. Обогревается каждый двумя печками, но дров катастрофически не хватает. Температура зимой – около ноля, а то и минус. Спасает только то, что в бараках заключенных много, до двухсот пятидесяти человек, но часть слабых все равно замерзает. Постоянные спутники здешнего зека – сырость и кашель.
Кормежка два раза в день. Жидкая баланда на консервах, иногда бульон на костях. Столовая для зеков здесь же, на их территории. Такая еда никак не может покрыть дефицит калорий. Ведь в таких условиях при тяжелой работе человеку нужно много энергии на обогрев и на физическую работу, плюс белок на то, чтобы не съедались собственные мышцы. За какое время дефицит приведет к той точке, когда человек неизбежно умрет? Кому как еды и работы достанется. От месяца до полугода. Если раньше не замерзнет, не убьет свалившимся сверху камнем (на Кодаре сыпется все постоянно), не завалит в шахте, не сорвется со скалы. Добавьте к этому скотское обращение со стороны администрации. А представьте, как вручную, абсолютно без средств защиты, долбить радиоактивную породу… Скептики, правда, заявляют, что, дескать, фон не сильно высокий. Зато каждый день по двенадцать часов, глотая ядовитую (даже если бы она не была радиоактивной) пыль… Специально, для этого лагеря, в Чите всегда держали 2500-3000 заключенных, для обеспечения бесперебойности добычи руды.
Чтобы вывезти руду из этого каменного мешка на обогатительную фабрику, нужна была дорога. Как только стало известно, что на Кодаре есть уран, поступила директива – в сжатые сроки подготовить хорошую дорогу, которая сможет функционировать круглогодично. И, естественно, дорога была сделана.
Как правило, в таких районах делают зимники по болотам и по руслам рек. Слишком узкие долины делают постройку всесезонной дороги чрезвычайно трудным занятием. По болотам следует проложить гати из хорошо пригнанных бревен. Кладется минимум три слоя бревен. Если болото совсем топкое, то еще один-два слоя. При входе в горы нужно выровнять склон и укрепить его, чтобы он не съезжал. Склон, естественно, перед этим нужно полностью освободить от деревьев и пней, камней и скал. Серпантин непосредственно в ущелье сделан на очень крутых склонах, поэтому на площадку, прорытую в скалах, тщательно укладывались камни, щели между которыми засыпались мелкими камнями и затем засыпались землей и утрамбовывались. Через все ручьи делались мосты. Мост должен был выдерживать вес груженой машины, и выполнен так, чтобы на нем образовывалось как можно меньше льда. Соответственно, машина должна была продвигаться по нему в любое время года. Дорога, длиной немногим менее пятидесяти километров, протянулась от Чарских песков, где находился Синельгинский лагерь, вверх, по левой стороне Среднего Сакукана. Сразу же, по окончании строительства дороги, как только возникла возможность подвезти лес, было начато строительства лагеря по добыче урана и, одновременно, эксплуатация первой штольни, пробитой сразу же за лагерем зеков. К тому времени, уже было построен комплекс для обогащения руды.
Дорогу на рудник иногда называют дорогой смерти. Причина в таком названии вызвана тем, что дорога эта, словно участок Китайской стены, лежит на трупах заключенных, причем в буквальном смысле этого слова. На строительстве дороги и лагеря было задействовано порядка десяти тысяч заключенных, из которых никто не дожил до момента запуска лагеря в эксплуатацию. Строительство дороги происходило полностью вручную и при очень неблагоприятных климатических условиях. Условно, здесь лежит двести человек на километр.
После окончания строительства дороги для вывоза руды из новоприбывших зеков было сформировано отдельное подразделение для текущего ремонта дороги, коего всегда хватало. Дорогу постоянно засыпало камнями, как в связи с тем, что горы сыпятся в принципе, так и потому, что Кодар достаточно сейсмоактивен. Мосты нужно было весной и осенью постоянно освобождать ото льда. Зимой чистить снег, а летом править те участки дороги, которые горная река так и норовила подмыть и унести водой, заполучив к себе в добычу грузовик.
Для расчистки территории лагеря и дороги применялся бульдозер, но его мощности хватало далеко не везде, да и ходовая часть не выдерживала работы на камнях. Большую часть работы приходилось делать вручную.
По лагерной дороге из грузовых автомобилей пользовались преимущественно «студебеккерами». В Советском Союзе в те года еще не было серийных грузовиков высокой проходимости, которые подходили бы для суровых условий Кодара, поэтому страна была вынуждена применять технику бывших союзников. «Студебеккер» имел трехосную капотную компоновку со всеми ведущими колесами и односкатной ошиновкой. Это позволяло ему более или менее уверенно проходить скользкий в плохую погоду серпантин, преодолевать броды в нижнем течении Сакукана (там не было мостов) и не бояться гатей. Иностранная машина настолько хорошо зарекомендовала себя по проходимости, что в Советском Союзе по ее подобию стали выпускаться уже свои грузовики. Но это уже чуть позже, перед смертью Сталина.
На большей части урановой дороги, разъехаться машинам было невозможно, в связи с чем, движение было организовано преимущественно одностороннее. Большего, однако, и не требовалось – добывали уран, а не уголь. Машины везли в лагерь дрова, инструмент, одежду, еду, людей. Обратно шли, груженые рудой.
Проехав мост, грузовики начинали длинный и долгий подъем в висячую долину уранового рудника. Это наиболее опасная часть маршрута. Если из болота или ручья машину еще можно было достать, то выезд по неосторожности или из-за погоды за пределы узкого серпантина однозначно приводил к потере машины. Дорога очень опасна и не освещена, а серпантин местами изгибается очень круто. Водители – вольнонаемные, настоящие асы. Следует отметить ценность автомобиля в тех местах. Тогда еще не было железной дороги и доставку абсолютно всего приходилось осуществлять по воздуху. За потерю машины водитель вполне мог оказаться ее погрузчиком.
В лагере машины разгружали от привезенного груза, исправные загоняли на стоянку, а неисправные везли к автомастерской на текущий ремонт. Обслуживание автомобилей и их ремонт полностью осуществлялся силами заключенных под руководством специалиста. Мелкий ремонт был доступен непосредственно на территории лагеря, более крупный в Синельгинском лагере на песках.
Со стоянки (с площадки для техники), по мере надобности, через проходную, машины подъезжали к специальным деревянным коробам, оббитых железом и наполнялись рудой. По возвращении на проходную автомобили дотошно осматривались охраной с собакой на предмет беглецов и выпускались наружу. Проходная, по сути, представляла высокие ворота, обтянутые колючей проволокой, в таком же высоком и защищенном заборе, идущем от лагеря заключенных и перегораживающим ущелье. Забор отделял «рабочую» часть рудника от «административной». После проверки груженый автомобиль один или в составе колонны машин отправлялся вниз, чтобы отвезти руду на обогатительную фабрику. Конечно, лучше было бы поставить фабрику здесь, да вот только места для нее нет…
Фабрика по обогащению урана была построена недалеко, здесь же, в долине Среднего Сакукана. Это первая в Советском Союзе обогатительная фабрика, где обогащение шло на поток, а не в пределах лабораторных опытов. Спустя два-три года, в 1949-1950 годах, подобная будет построена в Магаданской области, но уже из камня, а не из дерева, как на Кодаре. А пока строился гигантский рудник на Магадане, империи требовалось оружие, которое ковали здесь, где внизу сходили с ума от гнуса, а вверху замерзали и гибли под обвалами и от лучевой болезни.
По мнению некоторых, урановый рудник на Кодаре послужил еще и местом для обкатки технологии добычи. Какая тут технология, при ручной то работе? На этом руднике, кроме действующей фабрики по обогащению, был выработан только план по поставке на смерть людей, которыми страна поступилась ради драгоценной руды.
Обогащенный уран самолетом перевозили в европейскую часть страны, где вовсю испытывали и ставили на вооружение ядерные межконтинентальные ракеты. Позже примут серию ядерных ракет ближнего действия. Еще чуть позже будут испытаны снаряды для пушек и танков, несущих в себе ядерный заряд. Тогда же появятся подводные лодки и корабли, работающие на ядерном топливе. В это же время Советский Союз начнет свою программу «Мирный атом», последствия которой по тяжести стократ превзойдут военное применение этого оружия вплоть до нашего времени.
Дрова – это настоящий бич для инфраструктуры рудника. Для эффективной работы рудника их требуется очень много. Электростанцию, что подает на рудник и пески электричество нужно чем то топить. Бараки десятка тысяч заключенных по всему району нужно отапливать, как и обогревать администрацию и вольнонаемных. С самого начала планировалось для этих нужд добывать уголь. То есть инфраструктура должна была включать в себя еще и разработку угольного карьера. Но, вопреки ожиданиям, в долине Среднего Сакукана уголь найден не был. Нина Азарова, геолог, она вела работы по поиску угольного месторождения, погибла во время поисков. Официально. Пишется «погибла, сорвавшись со скалы». В общем, не оправдались надежды найти уголь рядом с рудником, а с других мест возить было весьма накладно (не самолетом же). Уголь был все-таки найден позже в долине Апсата, но разработано месторождение не было, так как рудник к этому времени уже закрывался. Отсутствие угля привело к возникновению временных небольших лагерей по заготовке леса. Они существовали с самого начала, для добычи строительного материала, а позже заготавливали дрова. Часть древесины уходила на новые постройки, на ремонт дорог и, иногда, для подпорок в штольнях. Кстати, именно дефицитом леса и вызвано отсутствие подборок на подавляющей протяженности штолен – отсюда и нередкие обвалы.
От основной дороги в стороны ведут просеки, где зеки срезают со склонов все что толще пятнадцати сантиметров. Зимой организуются зимники по Апсату и Верхнему Сакукану. На всем их протяжении в лесной зоне работает лесоповал. На машинах по льду рек лес увозят вниз, а затем доставляют по лагерям. Но леса все равно не хватало.
Совсем вкратце вот так и работал лагерь. Не следует забывать, что развалины лагерей в Мраморном ущелье, в долинах Верхнего и Среднего Сакуканов, на Сюльбане, на Чарских песках – это все детали одной инфраструктуры. Все эти лагеря работали только на добычу урана и больше ни для чего. Строительство этого комплекса было большим по масштабам и затраченным жизням заключенных, нежели позднее строительство БАМа (имеется в виду силами заключенных). Все лагеря здесь называют общим названием – Кодарлаг, хотя он относится к Борлагу, системе Борских лагерей. Вернее, Кодарлаг следовало бы называть Кодарским комплексом по добыче и обогащению урана.
Попробуем теперь разобрать некоторые вопросы, которые возникают при взгляде на рудник и его территории. Слишком много слухов ходит вокруг этого лагеря и, наоборот, многое просто неизвестно. В свое время я постарался составить список этих вопросов и попытался найти ответы на них на местности. Часть этих вопросов уже была освещена выше, теперь мы рассмотрим то, что осталось за пределами повествования.
Еще раз следует напомнить, что в основе добычи первого (а также второго и третьего, и нескольких последующих) урана лежит геноцид. То есть массовое (цифры, хоть и примерные, я приведу ниже) истребление людей. Это политика государства, в котором мы жили. Советский Союз в то время был достаточно отсталой страной в техническом плане. Интеллигенция, носитель знаний, была уничтожена во время Красного Террора. В итоге ко второй мировой войне у нас было совсем мало ученых и еще меньше изобретений. Техника и вооружение были преимущественно скопированы, причем не самым лучшим образом, за рубежом. Конечно, это не умаляет технические характеристики некоторых наших танков и военных самолетов, но это лишь исключение из правил. Все наши стройки и достижения пред и послевоенного времени лежали на трупах заключенных, которых по лотерее (иначе это никак не назовешь) выдергивали из домов и загоняли в тундру. И самое страшное, что сегодня очень многие утверждают, что все было правильно, что только так и надо. А готовы ли вы сейчас к тому, что наше нынешнее государство отправит туда же, вновь займется геноцидом? Пятая часть земного шара именно этим и занимается. Почему бы и нам не заняться тем же самым? Я лишь надеюсь на то, что если такое вновь случится, то первыми туда отправятся те гуманисты, которые рассуждают сейчас о пользе геноцида, и те люди, которые присваивают заслуге тех, кто умирал тысячами там, где справился бы один трактор.
Почему закрылся рудник? Ответов здесь несколько. Вообще, официальная версия такова, что он просуществовал то всего пару лет, да уран кончился. А затем и рудник, соответственно закрылся. Тем не менее, рудник открылся раньше и проработал дольше, чем это принято утверждать. При определенном освещении стена скального массива внимательному наблюдателю предъявит не одну-две штольни, а на порядок больше. Причем это только то, что видно сейчас, спустя пятьдесят лет после закрытия комплекса. Практически стена просто изрыта норами, и суммарная протяженность ходов каждой штольни измеряется сотнями метров.
Официально рудник открылся в 1949 году, постановлением Совета Министров СССР №172-52сс от 15.01.49 МВД СССР. Через семь месяцев уран добывали их пяти штолен. Это очень высокий темп работ даже для сегодняшнего времени. Одна штольня была начата до «официального» открытия. Первый уран шел исключительно в высокой концентрации.
Эксплуатировался рудник интенсивно и относительно долго. Конечно, урана становилось меньше. Были предприняты попытки добычи с другой стороны перевала, а также была произведена разведка других долин. Рудник наоборот, скорее расширялся. Готовилось место для новых заключенных, строилось общежитие для вольнонаемных. Но месторождение урана оказалось все же очень локальным, и добывать руду становилось все сложнее. В связи с тем, что к тому времени уран добывали уже не только на Кодаре, а дальнейшая разработка требовала огромных ресурсов, эксплуатацию рудника было решено прекратить. 26 февраля 1951 года было решено остановить добычу урана и перекинуть большую часть заключенных на другие урановые объекты. Еще почти год оставшаяся часть зеков работала на пробитых штольнях, потом эксплуатация рудника остановилась полностью. Лагерь постепенно, не сразу, опустел и был разрушен обломочным материалом. Часть лагерей была уничтожена умышленно, так как все, что касается добычи урана, было секретным и курировалось непосредственно НКВД. Серпантин и небольшие ответвления заросли молодняком, а мосты постепенно снесло паводками. Сама лагерная дорога была бы и сейчас проезжей до самого моста, но на одном из участков река подмыла часть дороги. В итоге дорога проходима для автомобиля чуть больше, чем наполовину. Все забылось…
Сколько всего работало заключенных в Мраморном ущелье и полностью на комплексе? Непосредственно на руднике одномоментно было занято примерно 1000-1200 заключенных. На реке Сюльбан порядка 1200-1500. На Синельге, на обслуживании дорог, электростанции и ЛЭП, на лесозаготовке и на обогатительной фабрике еще порядка 6000-7500 человек. Всего в комплексе могло быть занято до 10000 заключенных, не считая тех, кто был занят на обустройстве зимника до Могочи. Плюс к этому еще около 1000 человек вольнонаемных и столько же администрации и охраны. На строительстве комплекса было задействовано порядка 10000 зеков. Всего, за все время функционирования комплекса, на нем могло побывать не менее 25000 заключенных (могло быть и больше), большая часть которых на нем и осталась. Годовой бюджет комплекса в несколько раз превышал бюджет Читинской области. Именно такой ценой и был добыт первый уран канувшей в историю империи.
Как и где хоронили умерших заключенных? Казалось бы, при таком масштабе геноцида должно быть несколько крупных кладбищ, на которых, и похоронены зеки. Но, вдумайтесь, как в горах, при таких климатических условиях, закопать такую массу тел? В Магаданской области нашли смерть не десятки, а сотни тысяч, так это не значит, что там вся земля в крестах. Нет, все гораздо проще. Большая часть мертвых заключенных, особенно на этапе строительства, топилась в болотах. Устраивались массовые захоронения. Позже, когда смертность упала – например, на обслуживании дороги, стали организовываться кладбища, которые можно найти и сейчас. На самих рудниках тела закапывали в большие ямы, которые вырывались при помощи динамита и равнялись затем вручную. Чтобы не возникло дефицита места для могил, тела частично сжигались. Зимой тела чаще всего вывозили на те же самые болота. По инструкции каждому трупу проламывали молотком голову, прежде чем грузить на машину. Человек здесь рассматривался только как ресурс и ни чего более. Отработал – в топку.
Правда ли, что после закрытия рудника всех заключенных или большую их часть завалили в штольне? На этот вопрос сегодня ответить уже невозможно. Официальная версия такова: после прекращения добычи урана заключенные были амнистированы и отправлены домой. В принципе, последнее утверждение является самым логичным (в смысле утверждать) для государства.
Для выбора той или иной версии по этому вопросу стоит принять во внимание некоторые обстоятельства и факты. Первое: работы по добыче урана были строго засекречены, а Советский Союз, особенно в то время, по части сохранения секретности пребывал в жестокой паранойе. Второе: в воспоминаниях заключенных всякое упоминание о Кодарлаге отсутствует. Нигде нет никаких записей, а документов очень мало. Воспоминания вольнонаемных появились только вот-вот, недавно, но они кратки из-за специфики работы, которой они занимались. Т.е. в литературе вы найдете упоминания почти обо всех лагерях империи, но очень мало об урановых рудниках. Третье: на урановых рудниках Магаданской области заключенные действительно были умерщвлены в штольне. На это есть соответствующие ссылки в сети Интернет. Там тоже, как и на Кодаре, ходили слухи о том, что заключенных завалили в штольне. В результате частного журналистского расследования эта штольня была найдена. Четвертая: на Кодаре есть как минимум одна (предположительно две) штольня с вертикальным входом, которая завалена обломочным материалом и остатками строений. Было ли это специально сделано, либо вход в штольню сам оплыл от времени, неизвестно.
На сегодняшний день наиболее вероятной видится следующая теория: зеки большей части инфраструктуры действительно могли быть амнистированы или переведены на другие работы. Ну работал на лесоповале, ну ремонтировал дорогу… А вот те заключенные, которые непосредственно добывали руду… Тут остается только строить догадки. Ликвидацию рабочих было бы легко сделать за два дня. Из них один день на то, чтобы заложить взрывчатку.
Согласно документам, основную часть заключенных вывезли отсюда на урановые объекты: рудники под Ленинабадом и в Челябинск-40. “Освободившихся заключенных в количестве 752 человека” – тех, кого по бумагам освободили – на самом деле не освободили, а отправили в лагерь строительства, 16, на станцию Китой. Туда же доставили и тех, кто обрел “волю” через “сталинские вахты”. Около 700 человек остались на месте для использования “по особому распоряжению”. Что стало с последними, неизвестно.
Ну, и, на конец, не всегда же слухи рождаются на пустом месте?
Правда ли, что, в числе прочего, на комплексе использовался детский и женский труд? Не секрет, что в Советском Союзе массово использовался на тяжелых работах и детский, и женский труд. Были созданы отдельные детские трудовые колонии, где дети так же работали на лесоповале или, как правило, на рудниках, где умирали тысячами. Чаще всего это были дети политических. Или вы наивно полагаете, что их всех отправляли в детские дома? У страны просто не хватило бы денег содержать всех детей заключенных, которые попали бы под гребенку массовых репрессий. И жены репрессированных тоже попадали в женские (а иногда и смешанные) трудовые колонии, где также работали на строительстве или валили лес. Применялся ли такой труд на урановом руднике? Непосредственно на добыче маловероятно, хотя и не исключено. В урановом добывающем комплексе Магадана такой опыт действительно имел место. И хотя доказательств того, что на Кодаре применялся детский труд заключенных не найдено, он действительно мог иметь место. Против говорит лишь только одно – это первая добыча урана и она должна была быть максимально эффективной, а взрослый труд эффективнее детского. Лишь только в том случае, если по каким-то причинам штольни не было возможности сделать достаточно высокими, чтобы работать взрослому человеку, туда могли загнать и детей. Так было на некоторых рудниках нашей счастливой страны, так могло и быть в этом каменном мешке.
В ущелье много костей, чьи они и откуда они там взялись? Костей действительно там хватает. Стоит пройти за проходную, и можно увидеть много самых разных костей, которые валяются повсюду. Стоит покопаться в развалинах, как обязательно найдешь выбеленные кости. Наверху, у штолен, их больше. По большей части они принадлежат животным, например, встречаются собачьи (или что-то подобное) кости, кости мелких животных или наоборот крупных. Попасть они могли сюда двумя путями, через суп и естественным путем пищевой цепочки животного мира, уже после закрытия рудника. Тем не менее, часть костей достаточно точно по размерам и форме похожа на останки человеческого скелета. Наиболее вероятен вынос останков из-под обвалов вместе с обломочным материалом. Большая часть костного материала растаскивается животными и птицами. Еще один источник костей – могилы. Здесь сложно похоронить глубоко и поэтому могилы, как правило, совсем мелкие. Из-за этого животные-хищники разрывают могилы и растаскивают останки умерших.
Сколько всего лагерей заключенных было в составе комплекса по добыче урановой руды на Кодаре и где находился их центр? Центром являлся поселок Синельга на Чарских песках. Это был поселок со своей собственной структурой – дома, школа, даже ресторан. Лагерей заключенных документально было десять.
Ниже приводится их перечень и название. Расположение указано лишь предположительно.
Лагерный пункт №1 – Гора. Возможно, непосредственно лагерь в ущелье.
Лагерный пункт №2 – Мраморный ключ. Вероятно, чуть ниже впадения ручья Мраморный в Сакукан, с другой стороны реки.
Лагерный пункт №3 – Сосновый бор. Расположен рядом с поселком Синельга.
Лагерный пункт №4 – Подсобное хозяйство. Вероятно, долина Среднего Сакукана, двумя километрами выше ручья Каменного.
Лагерный пункт №5 – Лагерный. Точное расположение неизвестно.
Лагерный пункт №6 – Метельный. Точное расположение неизвестно. Возможно, к нему шла дорога выше «Чертова моста», по левой стороне Сакукана.
Лагерный пункт №7 – Могоча. Обслуживал зимник Могоча-Тупик-Мраморный.
Лагерный пункт №8 – долина Верхнего Сакукана. Точное расположение неизвестно, возможно, район реки Таежная.
Лагерный пункт №9 – долина Верхнего Сакукана. Вероятно, район впадения Бюрокана.
Лагерный пункт №10 – Сюльбан. Расположен в районе Хадатканды.
Для доставки живой силы и грузов из Читы было задействовано 62 небольших транспортных самолета. По свидетельствам, самолеты нередко кружили в очереди, так как аэродром не справлялся с приемом, разгрузкой и конвоированием заключенных. Часть зеков была переброшена сюда со строительства 247 (будущий Челябинск-40), где в этот момент сооружался первый в стране комплекс по выработке ядерного топлива.
Было ли заключенным и вольнонаемным известно, что именно добывалось на руднике? Нет, не было известно. Официально это была добыча свинца, и даже по государственным документам везде проходило название свинец. В штольнях в принципе не было никакой принудительной вентиляции, как и средств защиты от едкой пыли. Спустя год после открытия рудника, когда перестал выполняться план работ, люди стали работать в штольнях по две смены. Позже в три смены, уже не почти не выходя наружу, спали там же, прямо на руде. Часть документов была рассекречена лишь в 1990 году, в то время и было официально признано, что в ущелье Мраморное добывался именно уран.
|